Департамент образования города Москвы
Юго-Западное окружное управление образования
Государственное
образовательное учреждение
Центр диагностики и
консультирования
"Теплый Стан"
| Университет психологических знаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последователь Фрейда Альфред Адлер первым выделил «порядковые позиции» — единственный ребенок, старший в семье, средний ребенок, младший из двух детей, младший из трех и большего числа детей — и заявил, что в соответствии с ними люди различаются по своему характеру. Порядок рождения — это вовсе не некая мистическая «неизвестная величина», накладывающая роковой отпечаток на наши судьбы. В первую очередь, важны «производные» от нее — восприятие себя самого, окружающих и мира, свойственные каждой из позиций. Ведь эти детские решения в подавляющем большинстве случаев становятся моделями, которые мы используем для решения взрослых проблем. Известный французский психоаналитик Франсуаза Дольто часто повторяла: многие братья и сестры имеют не одних и тех же родителей. Что это значит? Жизненный опыт меняет порой до неузнаваемости каждого из нас, и 35-летняя женщина, родившая второго ребенка, может ничем не напоминать себя же 20-летнюю, познававшую азы материнства. На эту тему трудно писать хотя бы потому, что как любая другая классификация, психология порядка рождения весьма относительна. Высказывания на эту тему грешат категоричностью и как-то неестественно подробны, например: на первенца можно положиться, он трудолюбив и организован, требователен, серьезен, придерживается буквы закона, верен своему слову, полагается на себя, но хочет угодить всем. Или о средних детях: они спокойные и приземленные, благодарные слушатели. Комплексно подходят к решению проблем, стремятся, чтобы всем вокруг было хорошо и радостно. Из них получаются отличные дипломаты. Рожденный первым «Свержение с престола». «Слабое звено» первенца — перфекционизм, корни которого лежат в ощущении отверженности и потери родительской любви после появления на свет младшего ребенка. «Монарх, лишенный трона», — писал Адлер. Обида на родителей может жить в душе первого ребенка всю его жизнь. Как никому другому, первенцу важно осознать свои негативные переживания, внутренне примириться с прошлым и научиться «быть родителем самим себе» — найти собственные опоры. Перед многими взрослыми первенцами стоит задача: научиться не только зарабатывать любовь, но и получать ее «просто так», а также «подружиться» с чувством безопасности. Как известно, именно на первого ребенка буквально обрушивается шквал различных, часто противоречащих друг другу воспитательных мер — отсюда эмоциональная нестабильность и «взрослая» склонность кидаться из одной крайности в другую. Много сказано и написано о том, как облегчить первенцу переход к роли старшего. Это и создание личного пространства (пусть это будет всего лишь уголок, полочка в шкафу, коробок для «секретных вещиц»), обязательный тактильный контакт, исключение нотаций на тему «ну ты же старший». Ребенок не выбирает себе роль старшего, а следовательно, любые претензии к нему бессмысленны и даже жестоки. Хуже всего, когда старшего автоматически, «по факту» рождения брата или сестры делают нянькой, причем «без права отдыха». Одна женщина с содроганием вспоминала, как ее, восьмилетнюю, не принимали в игру сверстницы, потому что к ней была «навечно» приставлена младшая двухлетняя сестра. «Я просто ненавидела ее, щипала втихаря и ставила подножки, чтобы плачущую привести к маме и заявить, что не справляюсь». Чтобы вернуть себе любовь родителей, старшие дети порой идентифицируются с родителем своего пола и берут на себя часть родительских функций. (Поэтому старшие более ответственны и властны, и этим же объясняется подмеченный последователями Адлера факт, что старшие дети чаще продолжают семейные традиции.) На этой склонности можно сыграть, предложив первенцу роль не «слуги», а «партнера», помощника в воспитании младшего, не забывая вместе с тем, что он — в любом возрасте — остается ребенком, которому нужна доля индивидуального родительского внимания и снисхождения. Моя восьмилетняя дочь — старшая из троих детей и мне порой приходится-таки «тормозить» выставляемые ей требования. Волей-неволей воспринимая ее как «большую», жду порой совершенно взрослого поведения... пока не вспомню или не увижу воочию, что многих ее сверстниц — младших или единственных детей в своих семьях — воспринимают малышками. Но самое главное, пожалуй, — позволить старшему выражать и открыто проговаривать свои чувства. Запрет на выражение «плохих» эмоций, как-то: недовольства, обиды, разочарования — один из худших «подарков», получаемых первенцами от взрослых. Второй ребенок: в тихом омуте... или Золотая середина? Из первых уст. Второму ребенку с самого начала задает темп его старший брат или старшая сестра: ситуация стимулирует его побивать рекорды «соперника». Благодаря этому он нередко развивается быстрее, чем старший ребенок. Например, второй ребенок может раньше, чем первый, начать разговаривать или ходить. «Он ведет себя так, как будто состязается в беге, и если кто-нибудь вырвется на пару шагов вперед, он поспешит его опередить. Он все время мчится на всех парах», — считал А. Адлер. Второй, но не последний, ребенок в семье является одновременно и старшим, и младшим, и поэтому может проявлять черты как старшего, так и младшего, и даже невообразимые их комбинации. Чтобы быть замеченным и получить свое место в семье, «середнячок» способен играть роль как «большого», так и «маленького» — в зависимости от обстоятельств. Подводный камень в воспитании среднего ребенка состоит в том, что основное внимание обычно уделяется старшему (например, он первым становится школьником) и младшему (как самому беспомощному). Средний же ребенок (если это не единственная девочка или мальчик в триаде) может испытывать ощущение, что он «никакой», и — в зависимости от базового психотипа — либо купаться в чувстве мнимой «неполноценности», либо привлекать к себе внимание плохим поведением, всевозможными надоедливыми, навязчивыми привычками, либо с удвоенной энергией бороться за свое место под солнцем, конкурируя с братом или сестрой. Мой средний ребенок, Саша, от природы больше склонен к первой, пессимистической стратегии. Вплоть до недавнего времени на любой вопрос из серии «Хочешь попробовать?..» он неизменно отвечал: «У меня не получится», «Я не умею», «Я не буду». Я стараюсь помочь ему обрести чувство уверенности — больше привлекаю его к тем занятиям, которые ему по душе, подчеркиваю достижения и умения и, разумеется, много говорю о том, какой он хороший и любимый, — именно он! В отличие от первенцев, погруженных во внутренние переживания, вторые дети чаще ориентированы на социум и открыты миру. Но я столкнулась с исключением из правил — Саша гораздо более интровертирован, чем старшая сестра. В его случае индивидуальные, генетические задатки «перевесили» все социальные условия, в том числе и обусловленные порядком рождения. Некоторые исследователи считают, что средние дети изначально учатся жить со всеми в ладу, становясь дружелюбными и тактичными по отношению к окружающим. С другой стороны, если исходить из концепции А. Адлера, объясняющей эффект порядка рождения борьбой за власть, средние дети могут проявлять противоположные, агрессивные («захватнические») качества. В большой (больше трех детей) семье у родившегося вторым больше шансов вырасти общительным, гибким, умеющим ладить с окружающими. Как «пессимистично» настроенного, так и «соперничающего» второго ребенка надо учить оценивать себя самого по сравнению с самим собой в прошлом (раньше не умел, но теперь научился), а не исключительно по сравнению с братом или сестрой. В этом смысле, если «Я» первенца зачастую болезненно гипертрофировано, то второй ребенок нуждается в укреплении личных границ и личного пространства. Из уст средних детей нередко можно услышать: «Мне было трудно найти место в моей семье, а теперь я чувствую себя «не в своей тарелке» даже среди друзей». Младший ребенок: «любимчик семьи» и хитрец Поскольку в большинстве семей с третьим ребенком он остается младшим, в сегодняшнем разговоре поставим условный знак равенства между позициями третьего и последнего. Ключевой момент к пониманию индивидуальности младшего ребенка, на мой взгляд, это то, что он попадает в сформированную систему, где у родителей устоялся взгляд на воспитание, и они не кидаются из крайности в крайность. Это предрасполагает младшего ребенка к эмоциональной стабильности. Из первых уст. По Адлеру, положение последнего ребенка уникально тем, он никогда не испытывает шока «лишения трона» и, будучи «малышом» или «баловнем» семьи, часто окружен заботой и вниманием со стороны не только родителей, но, как это бывает в больших семьях, старших братьев и сестер. Во-вторых, если родители ограничены в средствах, у него практически нет ничего своего, и ему приходится пользоваться вещами других членов семьи — отсюда отсутствие чувства независимости. В-третьих, младший ребенок растет в среде, где «большие» старшие дети обладают привилегиями и задают тон. На этой почве у младшего могут развиться чувство неполноценности и высокая мотивация превзойти старших. Адлер говорил о «борющемся младшем ребенке» как о возможном будущем революционере. «Младший Ахмед — воплощенная беззаботность, — говорит моя подруга Оля. — Ребенок-подарок, ласковый, веселый». И вместе с тем отмечает «проблемную» (в общем-то типичную) черту шестилетнего младшенького — виртуозное умение «переводить стрелки» и самоустраняться, когда нашкодили все вместе, а попадает, как известно, старшим. «Возвращаюсь я как-то домой... и застаю полный разгром, рассказывает Оля. — Мало того, что поиграли одновременно во все игры, потом порисовали красками на ковре (раскрыты были баночки из всех многочисленных наборов гуаши и акварели — гулять так гулять!), так еще перессорились и подрались. В пылу воспитательной беседы замечаю, что кого-то не хватает. Так и есть, Ахмеда, который тихонечко ретировался в свою комнату и сидит там с абсолютно ангельским выражением лица. И ругать его просто язык не поворачивается». Обычно на младших в семье возлагается меньше обязанностей — а ведь стереотипы поведения формируются именно в детстве. Да и к достижениям младшего ребенка родители, как правило, относятся менее требовательно, поэтому его «слабым звеном», наряду с ощущением «мне все сойдет с рук», становится отсутствие внутренней дисциплины и относительная вседозволенность. Вот и получается, что некоторые продолжают играть роль «младшенького» всю жизнь. В таком случае, если ему не дают даром — то «мир несправедлив», а все призывы к решительным поступкам (будь то от коллег, друзей или родственников) вызывают шквал обид и недовольства. Младшие дети, которые росли в неблагоприятной обстановке, могут потратить всю жизнь, борясь с внутренним чувством неполноценности («Меня не принимают всерьез, я лишний») и стараясь доказать, что они на самом деле важны — что приводит порой к совершенно непредсказуемым действиям. Единственный: баловень судьбы, или Тяжела шапка Мономаха Из первых уст. Адлер считал, что позиция единственного ребенка уникальна, потому что ему не приходится конкурировать с братьями и сестрами. Она часто приводит единственного ребенка к сильному соперничеству с отцом. Он слишком долго и много находится под контролем матери и ожидает такой же защиты и заботы от других. Главной особенностью этого стиля жизни становится зависимость и эгоцентризм. Единственный же ребенок при правильном подходе может получить большие преимущества — если родители относятся к нему сообразно возрасту, вовремя отпуская от себя, позволяя общаться, дружить и выяснять отношения со сверстниками и выстраивая действительно здоровые, близкие отношения. Обычно дети-одиночки более искусны в отношениях со взрослыми, способны быстро — гораздо быстрее, чем со сверстниками — находить с ними общий язык. Положительные примеры отношений с единственными детьми я постоянно держу «в уме», стараясь относиться к своим сыновьям и дочери не только как к «малой группе», но и выстраивать с каждым из них отдельную линию отношений, давать им мое личное внимание и подчеркивать их значимость для меня. Единственный ребенок лишен возможности играть роль «учителя» и «старшего» для своих младших братьев и сестер, поэтому среди его друзей должны быть не только сверстники, но и малыши, с которыми он почувствует себя взрослым, умным, сильным, заботливым. К слову, это же необходимо и младшим детям, и это было одним из аргументов, почему из двух вариантов — самый младший в младшей группе садика или самый старший в яслях — для своего Вани я выбрала второй. Родителей единственного ребенка подстерегает опасный соблазн — реализовать в сыне или дочери собственные несбывшиеся желания или представления об идеальном наследнике, например, настоять на выборе профессии. «Шесть лет с отвращением проучилась в пединституте, как хотела мать, сама всю жизнь учительствовавшая. Не проработав и года, поняла, что больше не могу, переквалифицировалась в программиста и теперь только поняла, каково оно — любить свою работу», — очень нередки подобные исповеди. Однако более чем какой-либо другой, единственный ребенок наследует характеристики своего родителя того же пола и крепкую привязанность к родителям. Тогда он становится их преемником и последователем — но по доброй воле. О воспитании единственного ребенка, как и о первенце, тоже написано немало. Главное — снять с ребенка груз завышенных ожиданий и требований и не взращивать «комплекс отличника». Навсегда забыть фразу «ты не оправдал моих надежд» и позволить ему выбирать самому: друзей, увлечения и хобби, впоследствии — профессию и спутника жизни… Единственный ребенок может стать искусным манипулятором, поэтому он должен видеть, что родительская тактика по отношению к нему однозначна, и вообще у них есть собственный, взрослый мир, другие интересы в жизни, не касающиеся его самого. В жизни не бывает жестких сценариев Если разница в возрасте между детьми больше 5–6 лет, каждый из них будет приближаться по своим характеристикам к единственному ребенку. Знаю женщину, у которой три сына. Один из них мой ровесник, второй — на десять лет младше, а третий родился годом раньше моей дочери. Все они были в семье скорее «единственными», чем старшим, средним и младшим детьми. Я упоминала мою подругу, маму трех девочек. Старшая ее дочь — типичная «единственная», какой она и была до 14-ти лет. Средняя играет роль старшей в диаде малышек, и лишь самая младшая «вписалась» в стандартную классификацию. Таким образом, порядок рождения в семье можно назвать ролями (старший, младший, единственный), которые даны нам жизнью. «Сценарий» же и «декорации» у каждого свои. Мы лишены выбора роли, но исполнение бывает только индивидуальным. Журнал "Мир семьи" ноябрь 2006 года
Эрик Эриксон (1902 - 1994) — известный американский психолог, получивший широкую известность, благодаря работам в области социально-психологической теории жизненного цикла человека, один из основателей эго–психологии. В своей психологии основывался на постулате социокультурной обусловленности психики человека. Разработал понятие психосоциальной идентичности как основного фактора психического здоровья. В условиях существенных социальных подвижек эта идентичность может быть нарушена, поэтому для ее восстановления необходимы особые психотерапевтические мероприятия. Разработал теорию стадиального развития личности, предполагающую прохождение ребенком восьми стадий развития. "Теория Эрика Эриксона о делении нашего жизненного цикла на восемь стадий, является одной из важнейших вкладов в развитии психологии".
То новое, что Эриксон внес в психоанализ, яснее всего проступает в его психоисторических очерках, соединяющих глубину психологического анализа с широтой исторической перспективы. Опубликовав в 1950 году работу «Детство и общество», Эриксон приложил свою теорию жизненного цикла к биографиям выдающихся людей. Он написал несколько блестящих очерков о Максиме Горьком, Джордже Бернарде Шоу и Фрейде. В этих психологических портретах отразился также проницательный подход Эриксона к социальной и политической истории Европы и знание европейской литературы. В каждом очерке избранный деятель вырастает до размеров исторической фигуры, которая несет на себе отпечаток эпохи и накладывает на эпоху собственный отпечаток. Как и последующие монографии, эти очерки Эриксона выделяются из жанра психоаналитической биографии тем, что совмещают изучение индивидуальной личности с историческим анализом.
Хотя Эриксон всегда настаивал, что является фрейдистом, критики считали его «Эго-психологом», поскольку, в то время как консервативный фрейдизм в центр внимания ставил Ид, Эриксон акцентировал важность Эго. Если теория развития Фрейда ограничивается только детством, то, по мнению Эриксона, развитие продолжается всю жизнь, причём каждая из стадий развития отмечается специфичным для неё конфликтом, благоприятное разрешение которого приводит к переходу на новый этап:
Восемь стадий человека Прошло почти 10 лет, прежде чем Эриксон систематизировал свои клинические наблюдения и изложил свою концепцию в книге «Детство и общество». Суммируя 15 лет практической и теоретической работы, он выдвинул три новых положения, ставшие тремя важными вкладами в изучение человеческого «Я».
Доверие и недоверие Первая стадия развития человека соответствует оральной фазе классического психоанализа и обычно охватывает первый год жизни. В этот период, считает Эриксон, развивается параметр социального взаимодействия, положительным полюсом которого служит доверие, а отрицательным — недоверие. Степень доверия, которым ребенок проникается к окружающему миру, к другим людям и к самому себе, в значительной степени зависит от проявляемой к нему заботы. Младенец, который получает все, что хочет, потребности которого быстро удовлетворяются, который никогда долго не испытывает недомогания, которого баюкают и ласкают, с которым играют и разговаривают, чувствует, что мир, в общем, место уютное, а люди—существа отзывчивые и услужливые. Если же ребенок не получает должного ухода, не встречает любовной заботы, то в нем вырабатывается недоверие - боязливость и подозрительность по отношению к миру вообще, к людям в частности, и недоверие это он несет с собой в другие стадии его развития. Необходимо подчеркнуть, однако, что вопрос о том, какое начало одержит верх, не решается раз и навсегда в первый год жизни, но возникает заново на каждой последующей стадии развития. Это и несет надежду и таит угрозу. Ребенок, который приходит в школу с чувством настороженности, может постепенно проникнуться доверием к какой-нибудь учительнице, не допускающей несправедливости по отношению к детям. При этом он может преодолеть первоначальную недоверчивость. Но зато и ребенок, выработавший в младенчестве доверчивый подход к жизни, может проникнуться к ней недоверием на последующих стадиях развития, если, скажем, в случае развода родителей в семье создается обстановка, переполненная взаимными обвинениями и скандалами.
Достижение равновесия Самостоятельность и нерешительность Вторая стадия охватывает второй и третий год жизни, совпадая с анальной фазой фрейдизма. В этот период, считает Эриксон, у ребенка развивается самостоятельность на основе развития его моторных и психических способностей. На этой стадии ребенок осваивает различные движения, учится не только ходить, но и лазать, открывать и закрывать, толкать и тянуть, держать, отпускать и бросать. Малыши наслаждаются и гордятся своими новыми способностями и стремятся все делать сами: разворачивать леденцы, доставать витамины из пузырька, спускать в туалете воду и т.д. Если родители предоставляют ребенку делать то, на что он способен, а не торопят его, у ребенка вырабатывается ощущение, что он владеет своими мышцами, своими побуждениями, самим собой и в значительной мере своей средой — то есть у него появляется самостоятельность. Если из этой стадии ребенок выйдет с большой долей неуверенности, то это неблагоприятно отзовется в дальнейшем на самостоятельности и подростка, и взрослого человека. И наоборот, ребенок, вынесший из этой стадии гораздо больше самостоятельности, чем стыда и нерешительности, окажется хорошо подготовлен к развитию самостоятельности в дальнейшем. И опять-таки соотношение между самостоятельностью, с одной стороны и стыдливостью и неуверенностью - с другой, установившееся на этой стадии, может быть изменено в ту или другую сторону последующими событиями.
Третья стадия обычно приходится на возраст от четырех до пяти лет. Дошкольник уже приобрел множество физических навыков, он умеет и на трехколесном велосипеде ездить, и бегать, и резать ножом, и камни швырять. Он начинает сам придумывать себе занятия, а не просто отвечать на действия других детей или подражать им. Изобретательность его проявляет себя и в речи, и в способности фантазировать. Социальный параметр этой стадии, говорит Эриксон, развивается между предприимчивостью на одном полюсе и чувством вины на другом. От того, как в этой стадии реагируют родители на затеи ребенка, во многом зависит, какое из этих качеств перевесит в его характере. Дети, которым предоставлена инициатива в выборе моторной деятельности, которые по своему желанию бегают, борются, возятся, катаются на велосипеде, на санках, на коньках, вырабатывают и закрепляют предприимчивость. Закрепляет ее и готовность родителей отвечать на вопросы ребенка (интеллектуальная предприимчивость) и не мешать ему фантазировать и затевать игры. Но если родители показывают ребенку, что его моторная деятельность вредна и нежелательна, что вопросы его назойливы, а игры бестолковы, он начинает чувствовать себя виноватым и уносит это чувство вины в дальнейшие стадии жизни.
Четвертая стадия — возраст от шести до одиннадцати лет, годы начальной школы. Классический психоанализ называет их латентной фазой. В этот период любовь сына к матери и ревность к отцу (у девочек наоборот) еще находится в скрытом состоянии. В этот период у ребенка развивается способность к дедукции, к организованным играм и регламентированным занятиям. Только теперь дети учатся играть в камешки и другие игры, где надо соблюдать очередность. Эриксон говорит, что психосоциальный параметр этой стадии характеризуется умелостью с одной стороны и чувством неполноценности - с другой. В этот период у ребенка обостряется интерес к тому, как вещи устроены, как их можно освоить, приспособить к чему-нибудь. Этому возрасту понятен и близок Робинзон Крузо; в особенности отвечает пробуждающемуся интересу ребенка к трудовым навыкам энтузиазм, с которым Робинзон описывает во всех подробностях свои занятия. Когда детей поощряют мастерить что угодно, строить шалаши и авиамодели, варить, готовить и рукодельничать, когда им разрешают довести начатое дело до конца, хвалят и награждают за результаты, тогда у ребенка вырабатывается умелость и способности к техническому творчеству. Напротив, родители, которые видят в трудовой деятельности детей одно «баловство» и «пачкотню», способствуют развитию у них чувства неполноценности. В этом возрасте, однако, окружение ребенка уже не ограничивается домом. Наряду с семьей важную роль в его возрастных кризисах начинают играть и другие общественные институты. Здесь Эриксон снова расширяет рамки психоанализа, до сих пор учитывавшего лишь влияние родителей на развитие ребенка. Пребывание ребенка в школе и отношение, которое он там встречает, оказывает большое влияние на уравновешенность его психики. Ребенок, не отличающийся сметливостью, в особенности может быть травмирован школой, даже если его усердие и поощряется дома. Он не так туп, чтобы попасть в школу для умственно отсталых детей, но он усваивает учебный материал медленнее, чем сверстники, и не может с ними соревноваться. Непрерывное отставание в классе несоразмерно развивает у него чувство неполноценности. Зато ребенок, склонность которого мастерить что-нибудь заглохла из-за вечных насмешек дома, может оживить ее в школе благодаря советам и помощи чуткого и опытного учителя. Таким образом, развитие этого параметра зависит не только от родителей, но и от отношения других взрослых.
Идентификация личности и путаница ролей При переходе в пятую стадию (12-18 лет) ребенок сталкивается, как утверждает классический психоанализ, с пробуждением «любви и ревности» к родителям. Успешное решение этой проблемы зависит от того, найдет ли он предмет любви в собственном поколении. Эриксон не отрицает возникновения этой проблемы у подростков, но указывает, что существуют и другие. Подросток созревает физиологически и психически, и в добавление к новым ощущениям и желаниям, которые появляются в результате этого созревания, у него развиваются и новые взгляды на веши, новый подход к жизни. Важное место в новых особенностях психики подростка занимает его интерес к мыслям других людей, к тому, что они сами о себе думают. Подростки могут создавать себе мысленный идеал семьи, религии, общества, по сравнению с которым весьма проигрывают далеко несовершенные, но реально существующие семьи, религии и общества. Подросток способен вырабатывать или перенимать теории и мировоззрения, которые сулят примирить все противоречия и создать гармоническое целое. Короче говоря, подросток - это нетерпеливый идеалист, полагающий, что создать идеал на практике не труднее, чем вообразить его в теории.
Близость и одиночество Шестой стадией жизненного цикла является начало зрелости — иначе говоря, период ухаживания и ранние годы семейной жизни, то есть от конца юности до начало среднего возраста. Об этой стадии и следующей за ней классический психоанализ не говорит ничего нового или, иначе, ничего важного. Но Эриксон, учитывая уже совершившееся на предыдущем этапе опознание «Я» и включение человека в трудовую деятельность, указывает на специфический для этой стадии параметр, который заключен между положительным полюсом близости и отрицательным — одиночества.
Седьмая стадия — зрелый возраст, то есть уже тот период, когда дети стали подростками, а родители прочно связали себя с определенным родом занятий. На этой стадии появляется новый параметр личности с общечеловечностью на одном конце шкалы и самопоглощенностью - на другом.
На восьмую и последнюю стадию в классификации Эриксона приходится период, когда основная pa6oта жизни закончилась и для человека наступает время размышлений и заботы о внуках, если они есть. Психосоциальный параметр этого периода заключен между цельностью и безнадежностью. Ощущение цельности, осмысленности жизни возникает у того, кто, оглядываясь на прожитое, ощущает удовлетворение. Тот же, кому прожитая жизнь представляется цепью упущенных возможностей и досадных промахов, осознает, что начинать все сначала уже поздно и упущенного не вернуть. Такого человека охватывает отчаяние при мысли о том, как могла бы сложиться, но не сложилась его жизнь.
Библиография на русском языке
Детство и социальная жизнь.
Данная книга посвящена проблемам юношеского возраста, связанным с социальным становлением личности. Анализируя основные аспекты юношеского кризиса идентичности, автор прослеживает индивидуальные жизненные циклы, последовательность поколений и структуру общества.
|
|
Научно-методическая деятельность
|

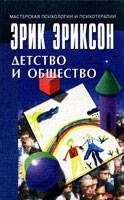
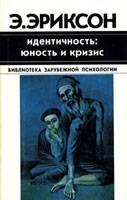 Идентичность: юность и кризис
Идентичность: юность и кризис